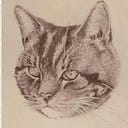The critic in December
Как я уже пару раз отмечал, у меня с авторами Новой Волны своеобразная антикорреляция: если они сами (или критики) какую-то нововолнистскую работу, обычно раннюю, осуждают за незрелость, это повод навострить ушки и внимательно присмотреться к “ошибкам юности”, допущенным в эпоху, когда автор еще не подал заявление на РВП в мейнстримном гетто.
Но всего забавнее, когда за “маловысокохудожественность” поругивают работы или фрагменты их, запавшие в душу еще с детства, когда я не подозревал, что текст на страницу перед глазами принесла именно Новая Волна. Без таких произведений интерес к фантастике мог бы не развиться вовсе. Сходным образом и математика, вполне вероятно, ассоциировалась бы у меня лишь с невыносимо скучными школьными и университетскими курсами, не наткнись я лет в 14 на Фрактальную геометрию природы Бенуа Мандельброта и не пойми, что языком математики можно описывать не только прорывы канализации в школьный бассейн.
Сегодня полюбуемся, как Колин Гринлэнд в часто цитируемой мною Выставке энтропии, фундаментальном справочнике жизни и времен нововолнистов, костерит Роджера Желязны за Ключи к декабрю, а конкретнее, за один из лучших инопланетных пейзажей в истории фантастики.
Тем самым Гринлэнд, сам — писатель заметно более скромных достоинств, лишний раз подтверждает правоту Балларда, чей пассаж о критиках выбрал для эпиграфа: “Единственный источник опасности для научной фантастики, троянский конь, которого погоняют к её расширяющемуся гетто — это… литературный критик”. У Балларда, впрочем, критик был безликим, а тут его индивидуальность проявлена так рельефно, что эффект производит скорее клоунский, вроде обязательных попыток Бэккера запихнуть ускользающий из подчинения сюжет псевдофилософского нейрофэнтези в прокрустово ложе теории слепого мозга и гримдарковых догм элиминативного материализма.
Оглядываясь назад, мы видим, что некоторые стили представляли собой подлинные попытки (как ни неуклюжие) революционизировать тематику, а другие, в основном американских авторов, — экскурсии в маньеризм, внешне инновационные, внутри же вполне обычные.
[далее перевод В. Баканова с небольшими исправлениями]
Быстро! Весь мир не больше чем в триста слов. Представьте…
Один континент с тремя чёрными, солёными морями; серые равнины, и желтые равнины, и небо цвета сухого песка; редкие леса с деревьями как грибы, окаченные йодом; холмы — бурые, желтые, белые, бледно-лиловые; зеленые птицы с крыльями как парашют, серповидными клювами, перьями словно дубовые листья, словно зонтик, вывернутый наизнанку; шесть далеких лун— днем как пятнышки, ночью как снежные хлопья, как капли крови в сумерках и на рассвете; трава как горчица во влажных ложбинах; туманы как белый огонь безветренным утром, как змея-альбинос, когда дуют ветры; глубокие ущелья, будто трещины в матовом стекле; скрытые пещеры как цепи темных пузырей; неожиданный град лавиной с чистого неба; семнадцать видов опасных хищников, слишком мохнатых и клыкастых, от метра до шести в длину; ледяные шапки как голубые береты на сплюснутых полюсах; двуногие стопоходящие полутораметрового роста, с недоразвитым мозгом, бродящие по лесам и охотящиеся на личинок гигантской гусеницы, а также на саму гигантскую гусеницу, зеленых птиц, слепых норолазов и питающихся падалью сумрачников; семнадцать могучих рек; грузные, словно коровы, пурпурные облака, быстро кочующие над землей на лежбище за восточным горизонтом; обветренные скалы как застывшая музыка; ночи как сажа, замазывающая менее яркие звезды; долины как плавная мелодия или тело женщины; вечный мороз в тени; звуки по утрам, похожие на треск льда, дребезжанье жести, шорох стальной стружки…
Роджер Желязны здесь явно не пытается произвести глубокое впечатление, так что, может, и нет смысла отмечать, насколько всё это прихотливо и несущественно. Тем не менее он пробует захватить наше внимание и наполнить его панорамой целого чужого мира; энергичная всеохватная чувственность, присущая ему, слишком уж часто отсутствует в сухих перечислениях фактов у других авторов научной фантастики. Он провоцирует смятение чувств, разъярившее бы их, рационалистов, и оттого кажется более “артистичным“ автором: эдакий Рэй Брэдбери под впечатлением от Дилана Томаса. Но в такой прозе всё определяется первым впечатлением и к нему приковано. Сравнения и ассоциации Желязны скорее отвлекают внимание, чем концентрируют его, оставляя по себе цепочку расколотых образов, расфокусированных и незапоминаемых. Если его фантазия кажется невероятно мощной, то лишь потому, что он её распустил до пределов. Тональность высокой поэзии маскирует привычное по старой научной фантастике высокомерие и пьянящие упрощения диванного автора, чьи мечты исключительно колоссального размаха, и воображение несётся через световые годы и эпохи. Он не стремится к максимальной аутентичности своей планеты, а сводит её к стилистической виньетке: “Быстро! Весь мир не больше чем в триста слов”. Её жителей, “слишком мохнатых и клыкастых” и “с недоразвитым мозгом”, он судит людскими мерками, с колонизаторским пренебрежением. Фактически большая часть избранных Желязны сравнений умаляет описываемое до уютного и безопасного размера: деревья как грибы, полярные шапки как береты, шесть лун— всё равно что обычные снежинки или пятна перед глазами.
Это описание преподносится в одной длиннющей фразе (почти без глагольных форм) и кажется непринуждённым, но вскоре начинает походить на каталог, как если бы “не больше чем в триста слов” — требование, которому нужно удовлетворить при оформлении отчёта. Такой предел научный и абстрактный, его ставит не фантазия: данные можно ужать для вящей точности, опыт — нет. Эти ограничения и свободный перехлёст выразительных средств Желязны очень сильно противоречат друг другу. Казалось бы, их можно интегрировать, показывая нам неоднозначность нашей реакции на инопланетный ландшафт, но автор этого противоречия, видимо, не осознаёт. Декларируя литературную свободу, он на самом-то деле
остаётся пленником старых ментальных привычек.
Это ранний Желязны, с тех пор он стал лучше.
Действительно ли Желязны стал лучше — или только профессиональнее — после того, как схлынула Новая Волна? Безусловно, ответ на этот вопрос зависит лишь от ваших предпочтений. Но я не удержусь от соблазна подметить, что, начиная примерно с 1975 г., его работы крупной формы становятся почти исключительно соавторскими, а сольники — почти исключительно амберскими. А вот два пятикнижия Янтарного Королевства, по признанию самого Желязны, ему в согласии с первоначальным нововолнистским замыслом воплотить не удалось; уже начиная с третьей книги, процесс оседлали издатели.