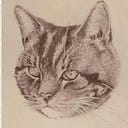Goldilockdown
В общем обзоре цикла статей Джона В. Кэмпбелла-младшего о Солнечной системе, представляющего исторический и даже педагогический интерес и сегодня, я одобрительно указал, что Кэмпбелл более-менее точно оценил сомнительные перспективы колонизации соседних планет системы или контакта с местной жизнью. Он не был, конечно, свободен от вспышек необузданного оптимизма, как в Самой могучей машине, где Аарн Мунро представлен выходцем с колонии на… Юпитере, причем Кэмпбелл в переписке с читателями “Astounding” подтверждал, что не сомневается в возможности существования там жизни.
Впрочем, при некоторой ловкости рук юпитерианскую колонию можно переклассифицировать в ганимедскую или энцеладскую, а там, из-за подповерхностного довольно теплого океана, уже другой коленкор; мир Шеффилда не выглядит продуктом внимательного восторженного изучения “гранд-туров” Кэмпбелла по Солнечной системе, но оптимизмом проектных сроков колонизации классика даже превосходит. Шутка ли, пока в нашем варианте реальности сверхтяжелые ракеты и лунные миссии постоянно сдвигаются вправо (особенно федерал-имперские), по хронологии Шеффилда через десять лет уже в системе Сатурна отмечаться надо, чтобы делянку не разделегировали.
Шеффилд и тем паче Абрахам с Фрэнком обладали несомненным преимуществом перед Кэмпбеллом: опорой на данные продвинутых исследований системы робозондами, большими телескопами (включая орбитальные) и дистанционными локаторами. Кэмпбелл же, писавший в 1930-х, сетовал, что о Плутоне знает больше, чем о закрытой облаками Венере, и без особой уверенности оценивал продолжительность венерианского дня в 30 земных суток. Как мы сейчас знаем, он ошибся почти на десятичный порядок. Попытки определить химический состав атмосферы Венеры спектрометрически в те годы также не давали результата, и Кэмпбелл пошел простейшим путем, объявив облака состоящими из воды:
Там наверняка имеется вода; трудно себе представить, чтобы иное вещество сформировало такие облака… К тому же такие тесты можно осуществлять лишь с наиболее тонкими внешними слоями атмосферы, а под облаками ничего не видно. Измеренная толщина видимой атмосферы над облаками существенно меньше мили, так что наши тесты неточны.
Строго говоря, вода в венерианских облаках действительно есть, вот только почти вся она там химически связанная, в форме гидрата смертоносной серной кислоты, получившейся путем гидратации трёхокиси серы, а эта последняя возникла за счет окисления сернистого газа атомами кислорода: в отсутствие собственной магнитосферы солнечный ветер с удовольствием расщепляет углекислый газ атмосферы, порождая свободный кислород.
Тем не менее в главном обзор Кэмпбелла оказался безжалостно точен: если вы углеродный шовинист, ловить на Венере и Марсе нечего.
Еще занятнее другое. Кэмпбелл не просто отдает себе отчет в таком шовинизме, но и, обосновывая эту позицию, в Планете под вуалью приходит к идее, которая во всем, кроме названия, аналогична понятию “зоны Златовласки”.
Но последнее, сформулированное лет на 40 позже, с его именем, разумеется, не связывается. Что ж, если вы читали Мэннинга, то подобное переоткрытие концепций, щедро раскиданных на непаханые силовые поля в середине 1930-х, вас не удивит:
Венера— неведомая, самая таинственная из планет.
Во-первых, можно ли там жить? Прежде всего рассмотрим некоторые опорные предположения о существовании жизни, в том числе и на Венере. Данные о жизни — данные, чей охват достаточен, чтобы использовать их в дальнейшем при дискуссии о возможной обитаемости всех прочих планет.
Очертим пределы. Во-первых, термин “жизнь”, какой мы её знаем, не следует использовать чересчур узко. Бессмысленно ожидать, что любая населённая планета предъявит нам своих кроликов и слонов, людей и золотых рыбок. Жизнь, какой мы её знаем, должна получить более широкую трактовку, нежели жизнь в тех формах, какие нам привычны. Дав разгуляться фантазии, можно представить себе жизнь на основе чистых сил природы. Жизнь сложна, и её можно опознать по способности пользоваться неочевидными закономерностями природы для преодоления преград, воздвигаемых очевидными.
Тело более тяжёлое, чем окружающая его среда, без поддержки падает. Таков очевидный закон природы. Но птицы не падают в воздухе без поддержки: они летают, используя неочевидные законы химии для получения энергии, скрытые механизмы контроля нервной системы и закономерности кинетического газового потока для удержания в полёте. Жизнь обязана подчиняться основным законам природы, но вполне способна усиливать и модифицировать в своих целях следствия из менее очевидных законов.
Она будет обязательно сложна. Если возможна жизнь на основе чистых сил, эти силы настолько далеки от нашего воображения, а тем паче знания, что бессмысленно сейчас рассуждать о ней.
Жизнь, какой мы её знаем, имеет химическую природу. Она представляет собой химическую реакцию, постоянно протекающую в неравновесных условиях. Смерть есть достижение окончательного равновесия в этой реакции. Мы не знаем точно химической формы жизненных процессов, но нам известны многие фундаментальные правила их.
Первое. Любая сложная химия, любая деликатная чувствительность нервных тканей связаны с растворённым состоянием. Высыхание неизбежно и во всех случаях несёт гибель любой известной форме жизни. Определённые споры, учитывая это, защищают себя от высыхания с помощью навоскованных или устойчивых каким-нибудь иным образом оболочек, но если они по-настоящему высыхают, то гибнут.
Второе. Требуется источник химической энергии. Можно предложить местные источники железа и воды. Низшие формы жизни способны существовать на химической энергии окисления железа до ржавчины, не прибегая к преимуществам активной газообразной атмосферы. Но так как химическая энергия стремится к рассеянию, то твёрдых или жидких химических веществ в наличии обыкновенно нет. Далее, необходима концентрация жизненных форм в этих активных очагах. В целом можно сказать, что жизнь зависит от атмосферы активного газа. Атмосфера толщиной в тысячу миль, состоящая из гелия, аргона и азота, пользы не принесёт почти никакой, поскольку эти газы недостаточно активны для поддержания жизни. Атмосфера нужна, и атмосфера активная.
Третье. Нужно тепло, достаточное, но не избыточное. Диапазон шире, чем мы привыкли думать, поскольку наличие активной атмосферы привносит заметную разницу, а растворы могут возникать не только в воде, а и в других жидкостях.
Каких жидкостях? Жидкость должна быть активной, как и газообразная атмосфера. Бензол существует в жидкой фазе при довольно низких температурах, но для жизни он не очень полезен, если такое вообще возможно. При ещё более низких температурах в жидкое состояние переходит газ этан, но и он непригоден из-за своей неактивности.
Воду мы обычно считаем неактивной. Это серьёзное заблуждение! Вода кажется неактивной лишь потому, что уже осуществила яростные атаки на все доступные её воздействию вещества и растворила их. Серная кислота, честно говоря, менее активна — в определённых отношениях…
Благодаря такой яростной и всеобъемлющей активности вода способна растворить в той или иной мере почти любое известное вещество. Растения и животные обрели в ней чудесную среду жизненных процессов, приучились её использовать и в ходе эволюции выработали способы предотвращать растворение необходимых им тканей.
Вторым по результативности растворителем в мире, а то и Вселенной, является аммиак. Не водный раствор аммиака, а жидкий аммиак, который применяется в рефрижераторах. Аммиак тоже весьма активен, он образует сложные соединения, подобные гидратам, как вода— с сульфатом кальция. Привычная нам жизнь в аммиаке существовать не может, но нет оснований полагать, что к такому не будут способны иные формы её. К несчастью, аммиак нестабилен, и мы на Земле тратим миллионы, синтезируя его из азота и водорода для дальнейшего производства удобрений: растения в аммиаке не выживают, но и без него плохо себя чувствуют.
Сернистый газ также заслуживает внимания: он представляет собой активную жидкость в несколько иных условиях, при более низкой температуре и немного более высоком давлении. Он тоже потенциально пригоден для жизни.
Теперь разберёмся с газами. Хотя доступные жизненным формам жидкости ничуть не исчерпываются тремя вышеназванными (это всего лишь самые вероятные кандидаты), выбор газов более ограничен. В земных условиях температуры и давления имеет смысл вести речь лишь о трёх. Это, конечно же, кислород, а ещё фтор и хлор. Все три активны при наших температурах и легко превращаются в различные соединения, которые могут использоваться жизненными формами. Фтор проявляет наивысшую среди них активность, и возможно, что при понижении температуры и давления активность его также упадёт, поскольку давление у газов отвечает за концентрацию, а реакционная способность любого вещества убывает с температурой.
При любых условиях для нашей задачи доступны фтор, кислород, хлор, бром, водород и йод — в порядке убывания активности. Чтобы уравнять их способности, необходимо повышать температуру. Таким образом, фтор будет достаточно активен для поддержания жизни при обычном атмосферном давлении даже при минус восьмидесяти градусах по Цельсию или около того, кислород — при минус двадцати, хлор— при минус десяти, бром — при семидесяти, а йод потребует не менее двухсот.
Вы заметили, что я обошёл молчанием водород? Температура не столь важна для водорода, как давление. При значительном увеличении давления активность водорода быстро растёт. К примеру, азот и водород при обычных условиях не соединяются в аммиак, но если просто смешать их под большим давлением (процесс Габера), они сочетаются весьма активно, хотя, как обычно, для ускорения реакции полезна температура.
Фтор и хлор при низких температурах не переносят существенно более высокого давления, чем наше атмосферное, и сжижаются; однако водород и кислород удаётся сильно сжимать при очень низких температурах, а водород противостоит любому мыслимому давлению без ожижения вплоть до критической температуры, которая очень низка: минус двести тридцать по Цельсию. В то же время, стоит нам увеличить давление брома или йода, как они сразу превращаются обратно в жидкость и, естественно, изымаются из атмосферы. Кстати, известны соединения их с водородом, HF, HCl и HBr, которые остаются жидкими под большим давлением и также потенциально пригодны для жизни.
Любая планета, претендующая на обитель жизни, обязана иметь углерод. Химия, в отличие от Галлии, делится на две части: неорганическую химию, которая занимается девяносто одним элементом из девяноста двух известных, и органическую, которая работает с одним оставшимся: углеродом. И органических соединений известно больше, чем всех неорганических. Никакая сложная химия не может существовать без углерода, поскольку углеродные атомы соединяются между собой так, как не умеют никакие другие. Лишь один элемент способен отдалённо имитировать углерод в этом отношении: кремний, ближайший родственник углерода. Но он слишком слаб, чтобы заменить углерод.
Мы очертили базис. Теперь введём ещё один параметр, который позволит нам исключить множество планет: температуру. Если температура слишком высока, как на самом Солнце, сложные соединения сформироваться не смогут. Жизни там быть не может. Если температура слишком низка, химические реакции практически парализованы…
… Размером Венера примерно с Землю, они так похожи по физическим параметрам, что за сестёр-близняшек сойдут. Гравитация на Венере составляет около 85 % земной. Но густые облака скрывают её секреты: облака, неразрывным покровом окутывающие планету на протяжении всей истории астрономических наблюдений. Сама эта таинственность нам кое о чём говорит, пускай и не видел ещё ни один человек истинной поверхности Планеты Под Вуалью…
Прямому наблюдению доступны лишь отражающие облака, белые, бесструктурные, как зеркальная поверхность. Но это не всё. Самый чувствительный зонд— не свет, а гравитация, которую ничем не задержишь. Мы можем, как я впоследствии объясню, таким образом выяснить больше о внутреннем устройстве Сатурна, чем о недрах самой Земли! Девять лун различной величины кружат около Сатурна, и на каждую воздействует, плотно удерживая её, масса Сатурна. Природа этой привязки и картина их движений снабжают нас ценной информацией о структуре Сатурна глубоко под облачным слоем, который закрывает и эту планету.
А у Венеры луны нет, нет спутника, который мог бы выдать её тайны. О Венере известны только её размер, форма, расстояние от Солнца и, конечно, отражающая способность. Последний параметр важен: альбедо, зеркальная сила. Хотя Венера, расположенная на три четверти ближе к Солнцу, получает по закону обратных квадратов вдвое больше тепла от него, чем Земля, облачный покров отражает заметную долю этого потока обратно в космос, откуда тот прибыл.
Из этих данных можно очень легко рассчитать температуру на Венере. Там жарко, очень жарко. На экваторе кипят моря, медленно испуская огромные пузыри пара. Лишь на полюсах планеты условия могут быть отдалённо пригодны для жизни, хотя и там жарче, чем в экваториальных областях Земли…
… Наша ближайшая соседка — серебристая, зеркальная, невероятно прекрасная, сияет в утренних или вечерних небесах, никогда не отходя от Солнца дальше, чем на 46 градусов. Обитаема ли она? Мы не знаем и не можем сказать. Можем лишь строить предположения: вероятнее всего, нет.
Вполне вероятно, что, ознакомься Каттнер и Мур с прогнозами Кэмпбелла внимательнее, Ярость ныне избежала бы почти полного — и незаслуженного — читательского забвения. Ведь немногие читатели дают себе труд абстрагироваться от идиотской, по современным понятиям, картины старомодной Венеры, покрытой джунглями и населенной таким смертоносным зверьем, что люди на сушу без острой необходимости не суются, предпочитая отсиживаться на дне морском в цитаделях, поименованных в честь штатов погибшей вместе с Землей Америки.
Между тем Ярость, как и работы Кэмпбелла, оказала солидное влияние на Бестера и Желязны, а через них — на всю современную космооперу, ведь, согласитесь, Гулливера Фойла из Моя цель — звезды или Князя света Сэма Калкина легко себе представить на одной дружеской попойке с Сэмом Харкером.
Фрэнк Херберт, первоначально также планировавший развивать сюжет Дюны в Солнечной системе, на Марсе (от этой задумки в окончательном варианте уцелели, к примеру, две маленьких луны Арракиса), впоследствии отказался от такой парохиальности и перенес действие в систему Канопуса. Продукт его трудов стал мгновенной классикой, хотя успех Херберта, разумеется, вызван не только этим.