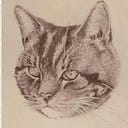From darkness, comes the immortality
Продолжая записи, вдохновленные эпициклами темной материи и темной энергии, обратимся к великой и классической дисциплине научпоп-журналистики — пророчествам о светлом будущем управляемого термоядерного синтеза. Уже почти три четверти века напролет, с той поры, как стартовали первые эксперименты с термоядерной энергией, его укрощение и приспособление для человеческих потребностей отодвигается, подобно коммунизму из старосоветской пропаганды, на 15–20 лет в будущее.
Знакомство с циклом Нэнси Кресс о Неспящих заставляет призадуматься, а не к лучшему ли такое перманентное торможение и не применяется ли оно умышленно. В ноябре после очередных крысиных бегов на ристалище американской политики особенно цепко западает в память следующий диалог из Нищих и выборщиков:
Дрю Арлен восседал в инвалидном кресле под деревьями холодного ноябрьского леса. Миранда остановилась перед ним. Легкий ветер заставил дрогнуть старый дуб, зашумели мертвые листья. Несколько облетело.
— Почему, Дрю?
— Мири, ты не имеешь права выбирать за сто семьдесят пять миллионов человек. У нас демократия. Ты не имеешь права игнорировать систему сдержек и противовесов. Лейша говорила…
— Кэндзо Ягаи так поступил. И? Он создал дешевую технологию получения энергии, и это изменило мир к лучшему.
— Ты могла бы остановить дюрагемовые дизассемблеры. Но ты не сделала этого. А люди погибли, Миранда.
— Не так много погибло, как в случае, если б остановила. В долгосрочной перспективе.
Газета New York Times в последние несколько избирательных циклов играет для медиасферы, попавшей под контроль Демпартии США, примерно ту же роль, какую в Старосоветской России выполняли авторитетные издания “Правда” и “Известия”, в Федеральной Империи Человека эпохи спецаберрации головного мозга— “Российская газета”, а на современной Разделенной Украине — “Зеркало недели” и “Украинская правда”. Это партийный боевой листок.
Потому неудивительно, что материал, живописующий блистательный прогресс исследований управляемого термояда за время отсидки Джо Байдена в Белом Доме, появился именно на ленте NYT.
Действительно, в декабре Года Джекпота Z0ZZ случилось одно из весьма немногих приятных его событий — в Ливерморской национальной лаборатории США сумели соблюсти так называемый критерий “безубыточности” (или, если в режиме авторского неологизма, как предпочли бы я или Владимир Набоков, “равноломки”) термоядерного синтеза, breakeven.
При мощности инициирующего лазера в 114% от номинальной было получено ощутимое превышение выхода термоядерной энергии (3.15 МДж) над вложенной энергией лазера (2.05 МДж). Арифметический расчет уровня начальной школы убеждает нас, что показатель эффективности Q составил 1.54.
Зато уже “инженерная эффективность”, в расчете на затраченную электроэнергию, выглядит куда скромнее, 0.0027, и заметно хуже классических токамаков: ливерморская установка NIF (с инерциальным конфайнментом и непрямым лазерным обжатием) тратит 400 МДж на работу ламп-вспышек и еще 100 МДж на другие нужды установки. Иными словами, восход Солнца вручную снова откладывается.
Но об этих малосущественных деталях партийные редакции New York Times и “Эха Москвы” (на чьи гранты в основном существует этот портал в изгнании, понятно не только лишь подневольным вильнюсским и тбилисским эльфам) предпочли умолчать. На “Эхе”, скажем, ливерморские события описаны лаконично:
Развитие компьютерных технологий позволило с поразительной точностью моделировать поведение плазмы внутри реактора. В 2022 году это уже помогло исследователям из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии добиться выплеска энергии большего объёма, чем потратили на запуск термоядерного синтеза.
Еще раз подчеркну, что установка NIF, где достигнуто значение Q=1.54, не имеет отношения к семейству токамаков. Но автора русскоязычной научпоп-статьи на “Эхе”, как, впрочем, и первоисточника в NYT, это не смущает:
Экстремальные температуры внутри Солнца заставляют частицы водорода сливаться и образовывать более тяжелые атомы гелия. В процессе этого выделяется колоссальная энергия — практически вечный двигатель, благодаря которому звезда продолжает светить. Перед исследователями стоит непростая задача: воссоздать в токамаке — установке с магнитами — маленькую копию светила.
Не токамаком единым угнетает этот фрагмент. Обозвать звезду солнечного типа вечным двигателем — чрезвычайная поэтическая вольность. В отсутствие событий вроде распада протона или коллапса ложного вакуума нашей Вселенной, которая расширяется с ускорением (хотя это не точно), сулят не менее 10 в 1100-й степени лет жизни. Впрочем, спонтанные флуктуации, как ожидается, способны породить новый Большой Взрыв и в космосе, безнадежно “замороженном” энтропией и голографической темной энергией, на фоне эры чудес — макроскопически усиленных квантовых эффектов. Теорема Пуанкаре о вечном возвращении сулит, однако, менее интересные мелодии энтропийного романса.
Очевидно, что “вечным двигателем” никак не назовешь термоядерную печку над головой, которая пребывает в расцвете сил, но даже и в ранней юности не могла рассчитывать продержаться дольше 10 млрд лет. Конечно, это не мешает нам предположить, что Человек будущего не оставит свою Родную систему в беде и применит к Солнцу методики астроинженерии, позволяющие продлить его век, подобно обороне Квартала-95 от войск Федеральной Империи, на “столько, сколько потребуется”. Но сценарий с заброшенной колыбелью человечества и предоставленным самому себе Солнцем все-таки вероятнее.
Хуже другое. Эффективность любых термоядерных генераторов космоса весьма низка, ибо буквально доли процента звездного вещества расходуются на энергогенерацию, а куда большая часть при гибели звезды пропадает. Особо крупные звезды при вспышках сверхновых могут буквально “вывалиться из реальности”, не оставив после себя ничего, кроме черной дыры.
Более того, темпы энерговыделения звезды типа Солнца в расчете на единицу массы порядка на три ниже, чем у человеческого организма на пике возможностей.
А какие звезды все же могли бы исполнять функцию “вечного двигателя”? Совсем недавно, летом текущего 2024 Года Джекпота, смелый ответ на этот вопрос предложили исследователи из Стокгольма и Стэнфорда.
Такую роль можно доверить звездам близ ядер галактик, в том числе и у сердца Млечного Пути — в нашей Галактике это сверхскоростные светила так называемого S-кластера (S2, S62, S4711, S4714 и пр.), удаленные от Стрельца А* менее чем на 0.1 пк. Так, звезда S4714 примечательна тем, что приближается к центральной сверхмассивной черной дыре на расстояние порядка орбиты Сатурна, разгоняясь при этом до подлинно релятивистских скоростей — 0.08с.
В окрестностях галактического ядра вообще весьма тесно: на кубический парсек приходится около 10 миллионов звезд. Их характеристики парадоксальны: несмотря на значительные массы многих светил (девяносто звезд Вольфа-Райе, сотни сверхгигантов спектрального класса O и так далее), кажется, будто они крайне молоды — возникли почти одновременно, сразу одной ватагой, во вспышке звездообразования, отстоящей от нас в прошлое не далее, чем на 15 млн лет. Эта загадка, не получившая пока никакого надежного объяснения, называется в космологии “парадоксом юности галактического центра”.
Для сверхскоростных звезд S-кластера он тоже дает о себе знать.
Авторы обсуждаемой нами сегодня работы предлагают вовсе отбросить представление о светилах близ ядра как о звездах в привычном понимании. (Читавшие Зоны мысли ностальгически усмехнутся, понимающе покивают и, быть может, опрокинут пару стаканчиков в надежде на то, что оставленный Вернором Винджем в марте на смачнейшем клиффхэнгере цикл кто-нибудь таки допишет.)
Постулируется принципиально иной механизм извлечения энергии и поддержания стабильности относительно гравитационного коллапса: аннигиляция темной материи.
Звезда, где вместо термоядерного синтеза идет такая аннигиляция, а обычные процессы горения практически или совершенно подавлены, будет, как и требуется, выглядеть юной, формирующейся, а вместе с тем проявлять парадоксальные свойства светила, где в прошлом уже шло термоядерное горение. По мере расширения звезды сечение захвата темной материи уменьшается, что вынуждает ее сжиматься обратно и стабилизирует в эффективном “бессмертии”. Ранее считалось, что подобные процессы могли идти лишь в очень молодой Вселенной, где гало темной материи (например, нейтралинной) были очень плотными, а значит, шансы обнаружить такие темные звезды солнечной массы открывались бы лишь за красным смещением выше 10.
Светила, перешедшие на “темную Главную последовательность” близ галактического ядра, словно бы застревают навеки на треках Хайяси или Хеньи, и возраст их увеличивается против обещанного стандартным термоядерным синтезом раз в 10, а то и в 50.
Дело за малым: удостовериться, что темная материя все же существует, и понять, из чего именно она сделана. Пока все попытки этого добиться приводят лишь к умножению диссертаций амбициозными аспирантами и постдоками, да еще трате дефицитного изотопно-чистого ксенона: очередной аппаратный апгрейд детектора темной материи в лаборатории Гран-Сассо под итальянскими Альпами потребует, скажем, 8.5 тонн этого “расходника”. (Вам тоже до сих пор обидно, что сделанное в этой лаборатории открытие сверхсветовых нейтрино оказалось “плодом творчества” разболтавшегося в разъеме кабеля?)
И, коль скоро аннигиляция темной материи способна заместить и вытеснить термоядерный синтез лишь в областях галактик, очень близких к ядру, Солнцу, чтобы воспользоваться таким средством продления жизни, придется в любом случае одалживаться у Человека (или у гностических архонтов) на двигатель шкадовского типа: естественные кочевки по Галактике приблизят Солнечную систему к ядру лишь до отметки приблизительно в 24 тыс. световых лет. Правда, есть мнение, что неприятные побочные эффекты от разогрева темной материей ощутимы и на таком почтительном удалении: гало Галактики-то никуда не делось, оно вытянуто на половину пути к Андромеде.