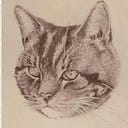Control the teaching of Russo-Japanese history
Фрэнк Херберт предпослал первой главе Капитула Дюны одну из лучших, важнейших и самых хлестких цитат цикла — контрапункт к известному высказыванию Сантаяны. На мой взгляд, эту фразу из Кодекса Бене Гессерит следует включить в обновленную конституцию прекрасной России будущего, а в том случае, если будет сильно лень Конституцию править на пеньках обломанных зубов дракона,
можно просто позаимствовать сам Кодекс, благо по трудам Херберта (и наиболее удачным фанфикам) он реконструируется с достаточной полнотой.
Она гласит (в моем переводе):
Те, кто желает повторения прошлого, должны контролировать преподавание истории.
Вряд ли современные федерал-имперские нобили питают какой-то интерес к истории за пределами Золотого века Старосоветского Союза при Императоре Леониде да Великой Отечественной (мифологизированной до полного разрыва с Главной исторической последовательностью и ухода на соседние стопки слабо согласованных историй). Очевидно, те, кто преподавал им историю, либо не желали повторения успехов прошлого, либо стремились к повторению его провалов, либо сами не понимали, что именно преподают, и не осознавали себя самих как персонажей Главной исторической последовательности. А зря.
Сравнение войны Федеральной Империи и Рамштайнской коалиции за Разделенную Украину со Второй мировой откровенно бурлескно и набило оскомину как предельно топорный иллюстративный пример закона Годвина — reductio ad Hitlerum. Отступление “за речку” из Херсона, ставшее уже четвертым жестом доброй воли с конца марта,
должно окончательно убедить вас, что правомернее иные, менее попсовые и более интересные в клиодинамическом аспекте сопоставления.
О Ночи Печали 1520 года я сегодня уже вспоминал, а теперь обратимся к примеру не столь кинематографичному, зато лучше проясняющему навязчиво декларирумые страхи федерал-имперских клептархов перед англосаксами. Страхи если и искренние, то, само собой, генетические: трудно списать их на вдумчивое изучение истории.
Во время русско-японской войны 1904–1905 гг., начавшейся, кстати, тоже в феврале, британское правительство решительно поддержало Японию и развернуло масштабную пропагандистскую кампанию против Империи Романовых.
Еще с осени 1903 года британская и японская пресса муссировали тему кишиневских еврейских погромов.
Так, в сентябре 1903-го газета “Нити-нити симбун”, мутировавшая впоследствии в более известную “Майнити симбун”, выразила несколько странное для японцев желание немедленно защитить права гонимых евреев. В редакционной статье отмечалось, что евреев в России, главным образом на юге, до десяти миллионов, и в Бессарабской губернии они подвергаются издевательствам и убийствам со стороны православного населения.
Общее количество подданных Империи оценивалось в 150 млн: интересно, что примерно таково оно и сейчас, хотя по итогам Годов Джекпота, конечно, уменьшится.
Заканчивалась статья на ультраоптимистичной ноте:
Мы… разобьем… Россию с ее ста пятьюдесятью миллионами жителей, ненавидящими друг друга: они вечно грызутся между собой, точно запертые в одной клетке бешеные собаки.
Конвенция Монтрё о режиме черноморских проливов тогда еще не была подписана, но действовала Лондонская конвенция о проливах, участницей которой выступала Россия. Это ничуть не помешало Османской империи воспрепятствовать проходу находившихся в Черном море русских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы— с легкой руки английского посла, предупредившего и Турцию, и Россию, что если корабли не останутся заперты в Черном море, это грозит катастрофическими последствиями для отношений Лондона и Петербурга.
Японский посол в Лондоне виконт Тадасу Хайяси благодарно отмечал в опубликованном посмертно мемуаре:
Блестящие победы нашей армии и флота, беспрецедентные в мировой истории, не могли бы состояться без англо-японского союза.
Специальный корреспондент Reuters в Маньчжурии лорд Брук сообщал в 1904-м, что русские солдаты, переброшенные на Дальний Восток, никакой глубинной антипатии к японцам не питают, не понимают причин войны и сбрасывают душевное напряжение пьянством.
Сюмпэй Окамото в работе Японская олигархия в русско-японской войне цитирует по японским дипломатическим архивам 1900/1910-х источник среди русских дипломатов, офицера, остававшегося во время войны в Петербурге.
Тот отмечал, что истинной силы Японии при дворе и в Генеральном штабе себе не представляли и отказывались даже рассматривать возможность нападения “крошечной” Японии на Россию. Отчеты русских шпионов в Японии не отражали реального положения дел, поскольку “наверх” пропускались только те, из которых следовала якобы имевшая место неспособность японцев тягаться с армией европейского типа.
Военного энтузиазма не было и в помине,
половина населения вообще не представляла себе, где находится эта Маньчжурия и зачем Россия на нее претендует.
Единственными, кто радовался происходящему, по словам дипломата, были революционеры и анархисты, увидевшие уникальный шанс своего успеха в неудачной войне.
Конфликт застал нас врасплох, количество наших войск на Дальнем Востоке было крайне недостаточное.
Окамото подчеркивает, что японские олигархи-гэнро, сколотившие мощную клику и доминировавшие при дворе, не могли поначалу надеяться на полное поражение России, с самого начала войны не раз поднимался вопрос об условиях мирных переговоров.
Но аппетиты японцев по мере продолжения войны возрастали,
в Северную Маньчжурию и Монголию активно засылались диверсионные группы — так называемые “континентальные ронины”.
Министр иностранных дел Японии маркиз Дзютаро Комура уже в июле 1904 года разъяснил послам в Европе, что международные совещания по урегулированию конфликта с участием Японии невозможны без самой Японии, и никакое посредничество третьей стороны не будет принято иначе, как вспомогательное для прямых переговоров с Россией.
Конфликт перешел в затяжную стадию.
К весне 1905 года военное и финансовое положение Японии, которая долгую войну не могла бы вести без поддержки союзников, прежде всего британских кредитов, делало невозможным требование скромных условий мира. Перестав “крутить педали велосипеда” первой, Япония рисковала бы рухнуть.
Впрочем, как мы знаем, Портсмутский мирный договор 1905 года отразил требования Петербурга, пожалуй, даже в большей мере, чем японские — на этом настаивали США, желавшие, чтобы ни одна из сторон не усилилась чрезмерно за счет другой, но обе вышли из войны достаточно ослабленными.
Он был встречен японцами с огромным недовольством, но продолжения войны не последовало.
Соответствующий прогноз сделал еще в декабре 1904 года бельгийский посол в Японии барон Альбер д`Анетан, корректно предсказав, что повторение конфликта невероятно: после войны все усилия Японии будут сосредоточены на восстановлении подорванных сил, модернизации промышленности, обустройстве Кореи и эксплуатации ресурсов на отошедших по условиям мира территориях (ими оказались юг Сахалина и Ляодунский полуостров).
Однако вряд ли мир был бы подписан сравнительно быстро, спустя полтора года после начала войны, если бы не усилия Теодора Рузвельта, активно запугивавшего Петербург после Мукденского и Цусимского сражений ответным рейдом Японии через Приморье до Байкала с оккупацией Восточной Сибири.
О том, предполагалось ли провести это контрнаступление за тогдашний логистический эквивалент семи-восьми часов, дошедшие до нас источники умалчивают.