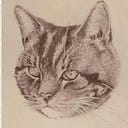Introspectory statement
Вернемся к теме классических бесподобных переводов советской эпохи, выполнявшихся для БСФ и более поздних серий, на примере рассказов Альфреда Бестера. Ранее я отметил забавные детали в переводе Звездочки светлой, звездочки ранней, которые нельзя объяснить лишь вмешательством цензоров. Этот вариант, как и многие другие слегка улучшенные переводы доцифровой эры, перепечатывался впоследствии во многих изданиях без изменений. Так, “говорящее” название рассказа Hobson’s Choice ничего не сказало переводчику, и он незатейливо сократил Выбор по Гобсону до невыразительного Выбора.
Следует учесть, что полные издания малой прозы Бестера в оригинале включают предисловия автора. В русских версиях, разумеется, эти комментарии отсутствуют, а жаль, поскольку они зачастую проясняют весьма специфический контекст Золотого века пальпа, без которого работы Бестера понять иногда не легче, чем нью-йоркскую дилогию Финнея.
Приведу здесь для интересующихся такие предисловия к двум рассказам — ранее упомянутой Звездочке светлой, звездочке ранней и О времени и Третьей авеню соответственно.
Приемы Погони и Поиска весьма давние, и им суждено оставаться на сцене еще долго. Если их использовать оригинальными способами, результат гарантирован: пульс подскочит, как от марша Сузы. Голливудские сценаристы меня, мягко сказать, разочаровывают. Кажется, других погонь, кроме автомобильных, они не знают.
Погоня и Поиск не идентичны. Они работают и поодиночке, но лучше их комбинировать. В старые беззаботные комиксовые деньки я даже испытал такой тандем на деле; начал со стандартного расследования, копания в бумагах, а потом превратил его в погоню по следу реальных бумажных денег. Эх, вспомнить бы еще, какого героя я тогда использовал. Зеленого Шершня? Капитана Америку? Капитана Марвел? Еще бы мне хотелось вспомнить, чем кончилось это дело.
Вы наверняка заметили, что я плохо помню свои работы. Честно говоря, после первопубликации я в них никогда не заглядываю. Но я в этом не одинок. От лучшего эксперта по теме, Джеда Харриса, я узнал, что превосходный и крайне популярный композитор Джером Керн никогда не запоминал своих песен. На вечеринках его приходилось силком за фортепиано усаживать; люди толпились кругом и исправляли ошибки, пока он играл. “Нет, Джерри, нет, не так!” В итоге приходилось им напевать нужную песню, чтобы освежилась его память.
Звездочка светлая, звездочка ранняя — история поиска в темпе погони. Не помню, откуда взялась центральная идея, но в те дни авторы НФ часто выражали тревогу насчет бесконтрольных талантов и детей-гениев, так что, думаю, она просто ко мне прилипла. Впрочем, нет. Я уже пробовал схожую идею за много лет до того, с молодым вожатым в летнем лагере для детей; он у меня был идиот-савант и сталкивался с чудовищным непониманием окружающих. Но загадку киднеппинга ему удалось решить, несмотря на дарованное мною странное имечко Эразмас Гаул.
История поиска и атаки на проблему в Звездочке светлой…— плод исследований всяких редкостей. Трюк с наследниками Бьюкенена был известен много лет назад и, вероятно, в той или иной форме применяется поныне. Господь свидетель, лохи не переведутся никогда. В первый университетский год у моего соседа по комнате парочка таких мошенников на Пенсильванском вокзале выманила всю его месячную стипендию (20 долларов). Спустя много лет я прочел об аналогичном трюке у Грина в Искусстве мошенничества — книге, изданной примерно в 1592 году. О нет, лохи никогда не переведутся. И каждую минуту рождается новый лох.
Пока я писал рассказ, я им был скорей доволен, но третий и четвертый абзацы, считая от конца, мне не нравятся. Это результат старых препирательств, на сей раз с Тони Бучером из журнала Fantasy & Science Fiction, и снова-таки по мелочам. Он хотел, чтобы в финале я показал точную судьбу жертв. Я же стремился оставить ее в тумане. Я проиграл и был вынужден добавить эти абзацы.
Когда я уступил в аналогичном споре по мелочам с Хорасом Голдом насчет Выбора по Гобсону, то забрал рассказ и отнес его Тони, и тот его напечатал. Когда меня переспорил Тони, нужно было забрать у него Звездочку светлую… и отправить Хорасу в коричневом бумажном пакете, без комментариев. Я этого не сделал, и теперь два тухлых абзаца там застряли. Пожалуйста, закройте глаза, как доберетесь до них.
Я совершил глупость. Я взялся за работу, не зная, куда она меня заведет. Не то чтоб это была уникальная для авторов глупость. У всех нас разные писательские техники, и все они годятся. Рекс Стаут говорил мне: “Ты, черт побери, прекрасно знаешь, как мы пишем. Вставляешь лист бумаги в машинку, печатаешь слово, потом следующее, и так до конца”.
Я ему не поверил, когда он утверждал, будто никогда ничего не планирует. Я до сих пор не верю, потому что мне самому нужно распланировать всё, пока я не сяду писать. Лишь недавно я узнал, что Стаут в действительности планировал произведения очень подробно, но держал планы в голове, никогда не записывая их. А мне приходится записывать.
Не всегда сюжет следует плану игры. В прошлом году я заканчивал роман и был уже так уверен в том, куда сюжет вырулит, что выбросил детальные заметки, сделанные перед началом работы — они загромождали мое рабочее место. Потом перечитал финальный вариант, плод недель кропотливой работы, и понял, что ничего общего с набросками он не имеет. Он был хорошим, даже превосходным, но история, которую я намеревался рассказать, вышла из-под контроля и двинулась своим путем.
Когда-то мы с нашим общим наставником Робертом Хайнлайном судачили (авторы всегда судачат между собой о всем подряд, от техник письма до любимой модели рабочего стола), и Роберт сказал: “Я начинаю с некоторых персонажей, устраиваю им проблемы, а когда они из этих передряг выпутываются, то и сказочке конец. К моменту, когда я четко слышу их голоса, проблемы уже обычно разрешились”. Меня ошеломило это заявление: я сам даже приступить к работе не могу, не услышав, о чем говорят персонажи, а к этому моменту у них уже свобода воли, собственные идеи и занятия в комплекте.
Однако в рассказ, ставший затем О времени и Третьей авеню, я вляпался без подготовки, в основном потому, что хотел использовать определенное место действия: обшарпанный бар “У П. Дж. Кларка” на Третьей авеню. Мы там собирались после повторных радиовыступлений, причем я так и не понял, почему именно там. В те дни по радио выступали сначала для Восточного побережья, а потом, спустя три часа, для Западного. Владельцы станций настаивали, что слушатели улавливают разницу между прямым эфиром и записью, предпочитая прямое выступление. Чушь собачья.
В общем, после повторного выхода в эфир мы заваливались либо в “У Тутса Шора”, либо в “У П. Дж. Кларка”. Последнее заведение тогда сокращенно называли “У Кларка” или “У Кларки”. Сейчас там пафосный клуб для молодых рекламщиков и писателей, называется “П. Дж.” Инициалы обрели собственную популярность и часто имитируются в логотипах. Ну, вы в курсе: закусочная “У П. Дж. Горовица”, ресторан сукияки “У П. Дж. Мото”, мексиканский ресторан “Реванш Монтесумы и П. Дж. Чико”.
О, это местечко мне было хорошо знакомо. Персонажи, чего греха таить, картонные — их я едва знал,— и меня бы это должно насторожить, но я слепо ввязался в игру, написал первый эпизод, а потом… А что потом? Я потерялся. У меня не было цельного сюжета, только начало. Я отложил его и снова вспомнил, только когда столкнулся с очередной раздражающей вариацией сюжета о знании будущего. Ну, вы представляете: заполучить завтрашнюю газету, распланировать преступление с целью наживы, увидеть собственное имя в некрологе на последней странице. На первый раз ничего так, но дальнейшие вариации— пфф… Меня соблазнила возможность показать, как по-настоящему нужно работать с этим сюжетом, и я переделал набросок в теперешний рассказ О времени и Третьей авеню. Ах да, если вам интересно, в каком состоянии были тогда мои личные финансы, то… мне пришлось сходить в банк, чтобы выяснить, кто изображен на стодолларовой банкноте.
LoadedDice