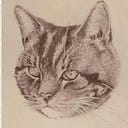Dead love and giant
Джеймс Грэм Баллард, Утонувший великан (The Drowned Giant, 1964)
Этот рассказ у Балларда и до экранизации в рамках Любви, смерти и роботов был одним из самых известных и часто антологизировался,
но лично мне жаль, что выбрали продюсеры именно его, а не, скажем, Безвыходный город, где даже в экуменополисе (или сфере Дайсона?) сохраняется определенная «иллюзия полета» — а некоторые, как Айзек Азимов, найдут тамошнюю обстановку и уютной, — или Последний берег, весьма актуальный по нынешним временам прокси-Третьей мировой войны, когда последние соглашения о коллективной безопасности мрачно хромают к логическому финишу своего срока годности. Не так в Утонувшем великане, который не просто следует классической традиции гуманистической сатиры, заложенной Свифтом, но и, подобно Империи солнца или Эндшпилю, автобиографичен — даже слишком.

Я его прочел, преодолевая (в отличие от чуть более поздней и, похоже, независимой работы Маркеса) рвотные позывы и помня, как еще полвека назад впору было ставить под вопрос выживание синих китов — но ничего, справились как-то и без китовых зондов Стартрека, да и в более традиционных областях потребления вегетарианское мясо, на радость конспирологам, с каждым десятилетием набирает популярность.
Однако ни в НФ, ни в магреализме рука не поднимается ставить высшие баллы произведениям, любимым школьными учителями литературы за то, что ответ на вопрос «дети, что этим хотел сказать автор?» считывается безошибочно.
В заметке о Балларде, которая включена в антологию Зеркало бесконечности (под редакцией Силверберга, 1970), американский критик Г. Брюс Франклин отмечает:
Баллард — поэт смерти, для которого наиболее типичны апокалиптические фантазии, прекрасные и мрачные образы распада, смерти, отчаяния.
По Франклину, все, чрезвычайно разнообразные, описания смерти у Балларда незатейливо символизируют загнивание британского капитализма в цепких объятьях молодежной (контр)культурной революции. Редко хочется соглашаться с истолкованиями, траченными молью классовой борьбы доинформационной эпохи; в интервью 1969 года Баллард поддел:
С марксизмом та проблема, что это общественная философия для нищих, а нам бы сейчас не помешала общественная философия для богачей.
Но в данном случае ничего не попишешь: действительно, на берег выбросило не просто Гулливера или его напарника по кораблю, а Британскую империю и ее легендарную тяжелую промышленность. (Причем Второй Елизаветинский век только начинался, и в нем предстояло еще много интересного, вплоть до выкупа лондонской футбольной команды чукотским сефардом из Саратова и перепродажи американскому инвестору, играющему по схеме 4–4–3.)
И случилось это в Кембридже 1949-го, где Баллард студентом после освобождения из японского концлагеря испытал переживание, немного напоминающее реакцию Чарльза Дарвина на зрелище наездницы, откладывающей яйца в гусеницу. Дарвин тогда пережил тяжелый душевный кризис: «Я признаю, что не так отчетливо вижу во всем промысел Божий и дарованную нам благодать. В мире, по-моему, слишком много страданий». Ему вторит через десятилетия, культуры и мировые войны студент медицинского факультета Баллард:
Анатомия открыла мне глаза… Ты всю жизнь строишь на иллюзии цельности своего тела, твёрдой плоти. Мифологизируешь знакомые куски плоти и сухожилия. Затем видишь труп на столе для вскрытия и начинаешь сам вскрывать его, и в конце концов не остаётся ничего, кроме эдакой груды хрящей и горстки костей с ярлычком, носящим имя какого-то мёртвого врача — это колоссальное впечатление, подрывающее уверенность в цельности плоти и убеждающее в том, что дух этого мёртвого врача продолжает себя.
Есть подозрение, что у русского писателя эта вечная дихотомия такого острого прихода бы не вызвала. У нас это просто: Сонечка Мармеладова в ипостаси эскортницы Листермана сядет управлять кораблем Тезея даже без лицензии.